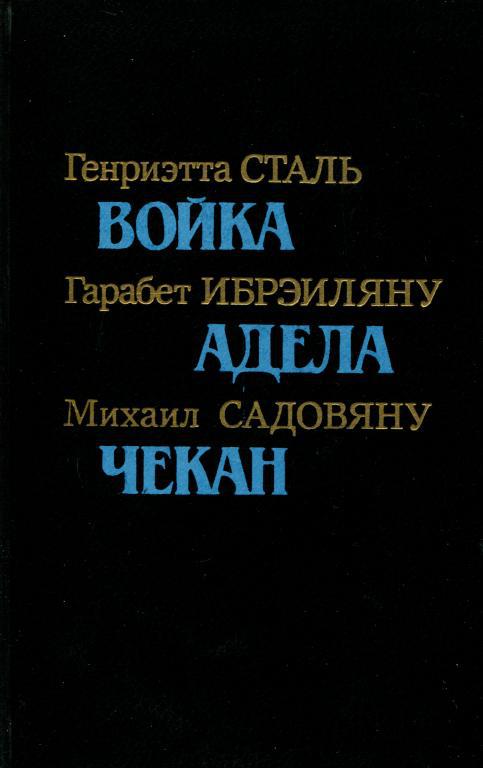в недоумении кивнул Богза. — Придем, коли господин субпрефект дозволяет.
— Приходите со своими женами. Очень я вас о том прошу. Завтра устроим моему мужу последний праздник. И господин субпрефект пожалует.
— Я?
— А то как же? Разве там нельзя потолковать, как тут вот? Глядишь, господин Богза и припомнит еще что-нибудь.
Калистрат Богза пошарил в кимире, достал табакерку, открыл ее и скрутил толстую цигарку. Женщина взялась за ручку двери. Помощник префекта скучливо ждал, когда она наконец выйдет, и уже был готов выставить ее вон — но природная деликатность помешала ему.
— Я бы еще кое-что могла сказать, — тоненьким голосом проговорила Витория, — но отложу на завтра. Поговорим потом.
— Когда потом?
— А как зароем Некифора Липана. Он уже сказал все, что должен был сказать. Приходи беспременно, господин Калистрат.
— Хорошо, хорошо, — ответил тот, часто затягиваясь толстой цигаркой.
Витория вышла. В соседней комнате увидела жандарма. Куцуй сидел в стороне и тоже курил толстую, как у Богзы, цигарку.
Горянка подошла к нему, улыбнулась.
— Вы что, сговорились скрутить одинаковые цигарки, да в одно и то же время? А господин Богза называет тебя…
— Он? Меня называет? — разъярился Илие Куцуй.
— Отчего же не назвать? Говорит, что ты был при передаче денег. Но я имела в виду другого, чужого.
— Никак в толк не возьму, о чем это ты, — тихо сказал Куцуй и опять опустился на лавку.
— Я говорила господину субпрефекту, что должен был быть еще третий, кто увидел деньги, а значит, и злодейство задумал учинить. Да вот оказалось, что никого не было. Но ведь кто-то может сказать, что коли не было свидетеля, так, значит, и деньги ему отсчитаны не были. А без денег зачем его было убивать? Без денег, выходит, и нечего было ему возвращаться с дороги — надо было ехать вперед за отарой.
— Как так без денег? Это что еще за слова? Я же тебе не раз твердил, что мы ему отсчитали все деньги там, наверху, на привале.
— Знаю, мил человек. Я о другом говорю, ты уж на меня не обижайся.
— Что значит о другом? Зачем же тогда городить бог весть что?
— Несу и я, что на ум придет, сужу да ряжу, как те люди, что лезут в наше дело скуки ради. Вам лучше знать, как там было, вот вы и расскажете. Мертвый, господин Илие, сказал все, что было надо. Все, что знал, он поведал. Чего ты на меня уставился? Теперь, стало быть, ваш черед, — и тогда всему конец. А уж господин субпрефект решит, что делать дальше. Я на вас только и надеюсь, оттого просила и господина Калистрата и тебя прошу — не бросайте закадычного дружка. Раз мы нашли его, приходите, побудьте с нами, покуда мы его не предадим земле на вечное упокоение.
Куцуй внимательно слушал, глядя в сторону.
— Как ты сказала?
— Пожалуйте на похороны, господин Илие. И господин Калистрат будет.
— Что ж, коли он придет, то я не против.
— Благодарствую, господин Илие. Уж как я рада — и жен приводите. Посидим за скудной трапезой.
Витория вышла, дробно стуча каблуками. Ради такого случая, готовясь к поминальной тризне, она сняла опинки и надела новые сапожки с глянцевыми носками. Самым коротким путем, по высохшим тропкам она добралась до заведения господина Йоргу Василиу. Там ждала ее нанятая просторная подвода, чтобы ехать вдвоем с приятельницей, госпожой Марией. А в горнице с круглым окошком — она это знала — сидела Гафица, которую в великой спешке позвал Гицишор.
Она вошла, скинула кожушки, опустилась на стульчик, приветливо глядя на госпожу Марию. Потом поворотилась к Гафице. Сказала, что рада найти ее здесь. Мол, и не чаяла ее увидеть. А рада она оттого, что может ей рассказать про разговор в примэрии, где субпрефект проводит дознание. Сперва на его вопросы отвечал господин Калистрат. Затем — господин Илие. Но ей, Витории, не понравилось, как он их допрашивает.
— А как он их допрашивает? О чем?
— Пытает их и так и сяк. Прежде чем войти к ним, я увидела там жену Богзы.
— Гм. Ты ее увидела? А ей-то что еще там понадобилось?
— Бог ведает. Я тоже посидела там немного. Послушала, что она говорила с какими-то женщинами. Одно скажу вам, милые мои: не приведи бог услышать, что говорят за твоей спиной закадычные подружки.
— Не иначе, как обо мне говорила.
— Ничего такого я не скажу. Не из тех я, что суют свой нос во всякие «интрики». О другом думаю: не калека она, не уродина, не дура. И не путается ни с писарем, ни с жандармом. Все это — я знаю — наветы завистников. Одного не понимаю: зачем ей понадобилось на других напраслину возводить? Вот я теперь, может, самая горемычная и разнесчастная на свете, вдовая, нищая, а сохрани меня бог оговорить человека, да еще работящего, зажиточного, что жену свою холит, одевает — глаз радуется. Ни за что бы не осмелилась сказать человеку хоть слово укоризны, оклеветать понапрасну. Так что я попросила муженька твоего пожаловать завтра на ту сторону, в Сабасу, на последний праздник дружка-приятеля.
Гафица была стройной бабенкой, с тонким станом, красивым, но холодным лицом. Под изящно выгнутыми бровями сияли миндалевидные, черные с поволокой глаза. Она носила юбку, расшитую блестками, модную кофту и обувку на высоких каблуках. Услышав дружелюбные слова горянки, она вся зарделась, от чего стала еще миловиднее. Думая о двуликости подруги, она усмехнулась и нашла немало выразительных слов, чтобы показать, какие бывают женщины на свете, особенно в урочище Двух Яблонь. Что же касается всяких наговоров, так она уже сказала, что невинному бояться нечего. Чекан Илие Куцуя спрятан дома, за иконой. Куда он только не брал его с собой, но ни разу не осквернил.
— Я за мужа на святом кресте могу поклясться.
— Знаю, милая. Не слушай ты этих пересудов. Уж какая я горемычная и то никого не оговариваю. Жду, покуда сам господь прольет свет. Его решение вовремя приспеет.
— И пусть, — вскинулась Гафица, сверкая глазами. — Кто совершил злодейство, тот пусть и отвечает. Кто смеется, пусть и слезами омоется.
— Знаю, — успокоила ее Витория. — Знаю, что господин Илие скажет начальнику всю правду. Не о том моя забота. И что бы там ни говорили о Богзе, у меня своя голова на плечах. Иных знаков, кроме тех, что поведал убиенный, мне пока не указано.
— Есть и другие, тетушка Витория. Верно говорю.
— Наслышана, как же.
— Вовсе нет. Ты небось думаешь, что я словами бросаюсь. А я говорю оттого, что душа нестерпимо болит: не